Гуидо Карпи. Достоевский — экономист
Дата: 07.10.2016 в 12:44
Рубрика : Книги
Метки : Достоевский, литературоведение, протекционизм, русская литетарура, экономика
Комментарии : Один
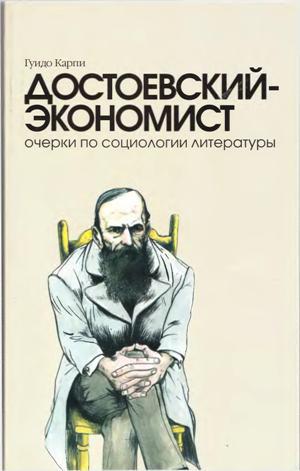
Гуидо Карпи. Достоевский — экономист. М., «Фаланстер», 2013
Великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский в наиболее творчески продуктивный период своей биографии, ознаменованный созданием пяти великих романов, был убежденным русским националистом, монархистом, охранителем, милитаристом, антиреволюционером, антилибералом, антинигилистом и антисемитом. Перед нами не случайные черты характера, не двойственность позиции политика и писателя. Напротив, свои идеологические убеждения Достоевский сполна выражал в романах, и с не меньшей страстностью и талантом — в «Дневнике писателя». Литературное значение последнего ничуть не меньше, чем у романов, но который постоянно задвигается на задний план, поскольку не соответствовал сперва коммунистическому, а затем либеральному мейнстриму.
В связи с этим перед либеральными и левыми исследователями всегда встает задача — как примирить Достоевского, «великого гуманиста и психолога», чьи произведения представляют одно из высших достижений всемирной литературы, и Достоевского «фашиствующего молодчика».
Работа «Достоевский — экономист. Очерки по социологии литературы», принадлежащая перу современного итальянского литературоведа Гуидо Карпи, по-своему пытается разрешить эту задачу. Карпи — марксист грамшианского направления, автор основательной «Истории русской литературы от Петра Великого до Октябрьской революции». Будучи преподавателем университета Пизы, Карпи постоянно публикуется в русских литературоведческих и гуманитарных изданиях и является равноправным участником здешнего гуманитарного процесса.
Великолепное знание источников, умение выбрать интереснейшую тему и поставить неожиданную проблему, методологическое новаторство и оригинальность мысли — всё это делает чтение работ Карпи невероятно увлекательным. Читаешь и с грустью думаешь о том, каким могло бы на самом деле быть марксистское литературоведение в СССР, будь оно действительно марксистским и увлеченным интеллектуальным поиском, а не той местечковой идеологической жвачкой, какой оно оказалось в действительности, подменив реальное исследование социально-экономических условий, порождающих литературу, вульгарно-социологическими схемами и социалистической «народностью».
Карпи предпринимает попытку исследования того специфического восприятия денег, характерного для творчества Достоевского, которое не может не броситься в глаза внимательному читателю. Деньги в достоевских текстах, как правило, огромные, шальные, возникающие из воздуха и исчезающие в никуда. В них нет ни малейшего признака трудового происхождения, никакой привязки к промышленному или сельскому производству.
Как передал ту же мысль Василий Розанов: «В России вся собственность выросла из „выпросил“, или „подарил“, или кого-нибудь „обобрал“. Труда в собственности очень мало. И от этого она не крепка и не уважается».
Зато несомненна связь с денег криминалом, агрессией, преступлением, насилием, унижением, садизмом, педофилией и другими извращениями. Деньги у Достоевского — агрегатор агрессии. И Карпи это убедительно показывает методами статистики в работе «Деньги до зарезу нужны»: темы денег и агрессии в “Братьях Карамазовых«(опыт статистического анализа).
Автор дает интересные интерпретации отношения героев Достоевского к шальным деньгам и предлагает оригинальную структурную характеристику основных произведений Достоевского, которые построены по большей части по одной идеальной схеме: «Герой переносит добытую теоретическим образом „истину“ (суждение или ценность) в свой личный жизненный опыт, чтобы доказать её всеобщую и обязательную значимость». Сюжеты «Преступления и наказания», «Подростка» и линия Ивана Карамазова со Смердяковым соответствуют этой схеме полностью.
При этом деньги — главное испытание, главная ордалия в романах Достоевского. У него деньги изъяты из производства, оторваны от создания прибавочной стоимости, а потому вносят в жизнь героев лишь смерть и разрушение. Финансовая плутократия имеет склонность ко всевозможным отклонениям, в частности к превращению денег в инструмент садизма.
Здесь Карпи перескакивает от структурализма и марксизма к фрейдизму, хотя его апелляции к «анальным стадиям сексуальности» мало что поясняют. Фрейдизм — вообще крайне обманчивый язык для истолкования Достоевского, поскольку теория Фрейда возрастала, в значительной степени, на анализе романов Достоевского. С другой стороны, «имя» Достоевскому на Западе сделал именно психоанализ. Соответственно, легко принять за аналитическое знание то, что является плодом этой функциональной зависимости фрейдизма от Достоевского и современного способа прочтения Достоевского от фрейдизма.
Иногда социал-фрейдизм уводит автора к совсем абсурдным построениям, как в целом увлекательнейшей статье «Ф.М. Достоевский и судьбы русского дворянства (по роману „Идиот“ и другим материалам)», где отношения Тоцкого и Настасьи Филипповны представляются как аллегория отношений дворянства и страны, движущиеся от «изящного и тихого домика с компаньонкой»; где за кулисами «со вкусом и изящно» творится насилие, до попыток вовлечь взбунтовавшуюся страну в сети финансовых спекуляций, которую олицетворяет Ганя Иволгин. Сожжение Настасьей Филипповной пачки купюр символизирует, таким образом, отказ страны от спекулятивного пути. Всё это забавно как bon mot, но для принятия этой паралитературоведческой гипотезы пришлось бы перетолковать весь текст 4 главы I части романа, дающей лишь с трудом переводимые в аллегорию подробности. Например, найти политический аналог главного страха Тоцкого (мол, Настасья Филипповна сделает нечто, способное выставить его смешным и унизительным в глазах света). В годы написания романа Россия грозилась дворянству скорее революцией, нежели неким символическим унижением.
Но дав исторические и литературоведческие интерпретации, собрав массу интереснейшего фактического материала, главной задачи, вынесенной в заглавие книги, Карпи не решает. Он опасно близко балансирует на грани понимания подлинных экономических воззрений Достоевского и тех конкретных исторических условий, которые их породили, но так эту грань и не переходит. В результате довольно ясные, последовательные и основанные на фактах экономические воззрения Достоевского оказываются в изложении Карпи довольно смутными, окрашенными какой-то реакционной мистикой пополам с жидоборчеством.
Попробуем разобраться в экономических воззрениях великого русского писателя и одного из крупнейших идеологов русского национализма чуть пристальней, отметив два ключевых текста, — рассказ «Крокодил», опубликованный в 1865 году, и последний выпуск «Дневника писателя», вышедший перед самой смертью Достоевского, в январе 1881 года.
Карпи, опираясь на источники, рисует яркую картину этой золотой лихорадки.
«Кто не жил в пятьдесят шестом году в России, тот не знает, что такое жизнь», — ностальгировал Лев Толстой.
«И простые рабочие, и фабричные, и фабриканты, и купцы всюду говорили нам об этом времени: „Мы тогда озолотились“. Фабрики не могли изготовлять товары, которые быстро расхватывались; строились новые фабрики и расширялись старые, удваивалось число рабочих часов, работали ночью, цены на товары и заработки выросли непомерно», — писал В.П. Безобразов.
«Не успеет составиться новая акционерная компания, смотришь, все её акции разобраны нарасхват до дня официальной продажи, и тотчас начинают ходить из рук в руки с надбавкой», — писал «Вестник промышленности» в 1858 году.
«Министры и другие сановники, чиновники всех рангов бросились играть на бирже, помещики стали продавать имения, домовладельцы — дома; купцы побросали торговлю, многие заводчики и фабриканты преобразовали свои учреждения в акционерные компании, вкладчики в правительственных банках начали выбирать оттуда свои вклады, — и всё это бросилось в азартную игру на бирже», — вспоминал журнал «Русский экономист» четверть века спустя.
Вокруг трона сформировалась дворянски-предпринимательская олигархия, своеобразным её символом стало «Главное общество российских железных дорог» (ГОЖД), акционером которого был сам царь, а управляющим — знаменитый финансист барон Штиглиц. По мнению Карпи, эта олигархия и была залогом устойчивости власти Александра II посреди всех бурь его царствования.
Финансовая заинтересованность императора и непрозрачность политического режима стали идеальным сочетанием для создания и преумножения олигархических капиталов: лучшего правительства «денежные мешки» и желать не могли.
«Дорого поплатилась Россия за это увлечение. Все потерпели: серьезные предприятия лопнули, потому что вследствие возвышения всех цен не хватило оборотного капитала, а кредита не было; дела же дутые потому, что аферисты или сами надулись, или других надули. При таком печальном положении денежного рынка отовсюду раздается крик: Денег нет! Денег нет! И это после недавно выпущенной массы кредитных билетов. Не денег не было, а не было капиталов. Обманутые обилием бумажных денежных знаков, мы начали массу новых промышленных предприятий, которые потребовали значительных основных капиталов, а между тем общий оборотный капитал страны уменьшился вследствие войны», — писал знакомый Достоевскому либеральный экономист Головачев.
В 1860 году терпит крах банкирский дом Штиглица, бывший в николаевскую и начале александровской эпохи стержнем российских финансов. Штиглиц едва ли не самовольно диктовал котировки на бирже, определял ситуацию с внешними займами России, ухитрившись даже в Крымскую войну оформить для Николая I заем под низкий процент.

Барон Штиглиц
Однако с конца 1850-х министерство финансов во главе с либералом Княжевичем начинает атаку на Штиглица в союзе с банковским домом Ротшильдов. Государство заключает заем через Ротшильдов минуя Штиглица. Но из 6 млн фунтов стерлингов суммы займа российское правительство получает меньше 4 млн. Ротшильды поступили с Романовыми как обычные финансовые аферисты.
Это способствовало восстановлению престижа Штиглица. Вместо закрытого частного банка он возглавляет Государственный банк Российской Империи. Впрочем, теперь он действует скорее как вассал Ротшильдов, не пытаясь даже противоречить их интересам. В этом качестве он вместе со сменившим либералов министром финансов Рейтерном участвует в попытке восстановления в России золотого стандарта. В 1862 году Госбанк занимает у всё тех же Ротшильдов 15 млн фунтов стерлингов, и в России вводится свободный обмен кредитных билетов на золото.
Однако — вот незадача — именно в этот момент начинается польское восстание, подогреваемое Англией и Францией, эти державы угрожают России войной. Правительство вынуждено идти на огромные расходы, чтобы подавить восстание, и должно готовиться к кажущейся неминуемой новой войне за Польшу. Всё это чудовищно дестабилизирует российские финансы: все попытки правительства поддержать курс ведут лишь к чудовищному дефициту и окончательному валютному краху 5 ноября 1863 года.
Известный русский экономист, один из видных идеологов русского протекционизма, Александр Павлович Шипов (1800–1878) писал в «Гражданине» Достоевского:
«Что мы слѣдуемъ, во всѣхъ мѣропрiятiяхъ нашихъ, внушенiямъ плутократiи и ученiю фритредеровъ, — являются два неотрицаемые факта. Это — несчастная финансовая операцiя 1862 года, совершенная опять въ надеждѣ искуственно возвысить упадшiй нашъ вексельный курсъ, длившаяся съ мая 1862 года по ноябрь 1863 года, и таможенный тарифъ 1867 года. Въ апрелѣ 1862 года, когда предпринята была опеpaцiя искуственнаго повышенiя нашего вексельнаго курса, курсъ этотъ былъ 28 апрѣля на Лондонъ 3410/16 пенса, на Парижъ 36,3 сантима; потомъ государственный банкъ, получивъ въ свои руки монету изъ совершеннаго на сей конецъ займа, сталъ ежемѣсячно назначать повышенiе курса, приплачивая разницу между естественнымъ и назначаемымъ курсомъ, и постепенно довелъ искуственный курсъ 28 октября 1863 года до того, что курсъ на Лондонъ былъ 3715/16 пенса, а на Парижъ 39,6 сантимовъ, т. е. почти доведенъ былъ до пари; но издержавъ на это почти 100 миллiоновъ рублей, онъ не въ силахъ былъ продолжать болѣе дѣлать такiя же безполезныя затраты, долженъ былъ остановить выдачу на этотъ предметъ денегъ и курсъ вдругъ рухнулся въ ноябрѣ гораздо ниже того курса, какъ было 28 апрѣля 1862 года»
Польшу и Западный край России удалось отстоять благодаря сверхэнергичным действиям М.Н. Муравьева-Виленского (которого левый Карпи, разумеется, именует «вешателем»), но это не значит, что не обошлось без территориальных потерь — продажа Аляски Соединенным Штатам была вызвана прежде всего необходимостью справиться с финансовой катастрофой, вызванной крахом курса. За все американские колонии было выручено жалкие 11 млн рублей, в то время как потери от финансового краха были более 100 млн. Продажа эта произошла совсем незадолго до золотой лихорадки, и мнение, что «Россию развели на бабки», было тем более всеобщим, что оно единственно верно отражало положение вещей.
Карпи характеризует эту ситуацию с характерным для марксистов презрением к воздействию международной олигархии и внешнеполитических обстоятельств на русскую экономику и общество.
Классическому марксизму вообще присуще «великолепное презренье» к деятельности международной финансовой олигархии, рассматривавшейся как якобы незначительный побочный эффект на пути развития производительных сил капитализма. Настолько незначительный, что при рассмотрении Марксом по большей части остается за кадром.
И в самом деле, марксистская теория отстроена так, что финансовому капиталу в ней места практически не остается. Капиталы у промышленников берутся как бы ниоткуда. Кризисы рассматриваются как связанные исключительно с перепроизводством и роль биржевых спекуляций в них — это роль исключительно индикатора. Главными врагами рабочих оказываются производители-предприниматели, которых можно шантажировать стачками. А о финансистах речи практически нет.
Фигура умолчания основателя марксизма на месте финансового капитала столь выразительна, что его последователям — Гильфердингу, Люксембург и Ленину приходится «достраивать» теорию введением концепции «империализма». Но и в этих концепциях империализма делается, как правило, вид, что капитал носит не транснационально-олигархический, а национально-имперский характер. В работах Ленина, которые вынуждены были изучать советские школьники моего поколения, тянутся щупальца «английского», «французского», «германского» и даже «бельгийского» капитала. Транснациональный финансовый капитал остается у марксистов анонимным.
Невольно закрадывается подозрение, что популяризация марксизма в Европе была связана в том числе и с тем, что именно эта концепция капитализма была чрезвычайно выгодна финансистам, поскольку уводила их в тень. Если даже не предпринимать конспирологическую теорию американца Э. Саттона, что Маркс сидел на ротшильдовских «грантах» (она вполне может быть высосана из пальца), достаточно выразительно суждение Михаила Бакунина — ожесточенного конкурента Маркса в борьбе за Первый Интернационал:
«Я уверен, что Ротшильды, с одной стороны, ценят заслуги Маркса, и что Маркс, с другой, чувствует инстинктивную привлекательность и большое уважение к Ротшильдам».
В любом случае, традиционный марксизм с его проблематикой «развитости» и «недоразвитости» капитализма уводит взгляд в сторону от финансовой олигархии и её роли в мировой капиталистической системе, и, соответственно, внешние причины экономических затруднений тех или иных стран в конкретный момент времени списываются на их собственную экономическую недоразвитость. Сосредотачиваясь на социальных и антропологических последствиях падения рубля, Карпи не только не дает читателю подлинную картину внешних обстоятельств, ему предшествовавших, но и — вольно или невольно — его запутывает.
Карпи цитирует дневник цензора Никитенко: «винят министерство финансов: Рейтерна, Ламанского, Штиглица, который теперь уехал за границу для каких-то финансовых операций, и об нем говорят, что он бежал. Слухи носятся даже, будто Рейтерн увольняется. Одна газета даже советует ему застрелиться». Карпи резюмирует: «Штиглиц не стал эмигрантом, а Рейтерн не застрелился: их карьеры спасло восстание в Польше». Выглядит этот намек так: карьеры коррупционеров были спасены укреплением государственничества и волной патриотизма.
На самом деле порядок событий противоположен: восстание в Польше началось в январе 1863 года. В марте в Варшаву прибыл граф Берг. В апреле Горчаков ответил Англии и Франции энергичными нотами на их ультиматумы по польскому вопросу. В мае 1863 началась миссия Муравьева в Вильне. К ноябрю 1863-го, когда последовал дефолт, ситуация переломилась, но это имело свою цену, которая и выразилась в экономическом крахе. Рейтерна и Штиглица спасло не восстание в Польше, а подавление его Муравьевым и Бергом, а также активная дипломатия Горчакова, позволившие локализовать последствия для России исключительно в финансовом секторе.
А теперь ответим себе на простой вопрос: были ли у Достоевского основания считать транснациональную олигархию главным врагом России? Случайна ли настойчивая тема Ротшильда, звучащая у него, особенно в «Подростке» (где, впрочем, фигурируют не английские, а французские Ротшильды)? Так ли уж безумно предположение писателя и политика, что главнейшая экономическая задача России — это освобождение от влияния иностранной олигархии? Диктовалась ли она примитивной ксенофобией и общим консервативным контекстом мысли позднего Достоевского, или же была объективным выводом из событий, происходивших с Россией, в частности с её финансами в 1856–1866 годах?
На самом деле эта история заживо проглоченного принадлежащим немцу крокодилом чиновника Ивана Матвеевича, предельно прозрачный памфлет о поглощении России о восприятии подобной «першпективы» в русском образованном обществе. Восприятие это удивительно напоминает позднейшую смердяковщину:
«- Сам виноват-с. Ну, кто его туда совал? …А главное — крокодил есть собственность, стало быть, тут уже так называемый экономический принцип в действии. А экономический принцип прежде всего-с. Еще третьего дня у Луки Андреича на вечере Игнатий Прокофьич говорил, Игнатия Прокофьича знаете? Капиталист, при делах-с, и знаете складно так говорит:
«Нам нужна, говорит, промышленность, промышленности у нас мало. Надо ее родить. Надо капиталы родить, значит, среднее сословие, так называемую буржуазию надо родить. А так как нет у нас капиталов, значит, надо их из-за границы привлечь.
Надо, во-первых, дать ход иностранным компаниям для скупки по участкам наших земель, как везде утверждено теперь за границей. Общинная собственность — яд, говорит, гибель! — И, знаете, с жаром так говорит; ну, им прилично: люди капитальные… да и не служащие. — С общиной, говорит, ни промышленность, ни земледелие не возвысятся.
Надо, говорит, чтоб иностранные компании скупили по возможности всю нашу землю по частям, а потом дробить, дробить, дробить как можно в мелкие участки, и знаете — решительно так произносит: дррробить, говорит, а потом и продавать в личную собственность. Да и не продавать, а просто арендовать.
Когда, говорит, вся земля будет у привлеченных иностранных компаний в руках, тогда, значит, можно какую угодно цену за аренду назначить. Стало быть, мужик будет работать уже втрое, из одного насущного хлеба, и его можно когда угодно согнать. Значит, он будет чувствовать, будет покорен, прилежен и втрое за ту же цену выработает. А теперь в общине что ему! Знает, что с голоду не помрет, ну и ленится, и пьянствует. А меж тем к нам и деньги привлекутся, и капиталы заведутся, и буржуазия пойдет.
Вон и английская политическая и литературная газета „Теймс“, разбирая наши финансы, отзывалась намедни, что потому и не растут наши финансы, что среднего сословия нет у нас, кошелей больших нет, пролетариев услужливых нет…».
«- Сами же мы вот хлопочем о привлечении иностранных капиталов в отечество, а вот посудите: едва только капитал привлеченного крокодильщика удвоился через Ивана Матвеича, а мы, чем бы протежировать иностранного собственника, напротив, стараемся самому-то основному капиталу брюхо вспороть. Ну, сообразно ли это? По-моему, Иван Матвеич, как истинный сын отечества, должен еще радоваться и гордиться тем, что собою ценность иностранного крокодила удвоил, а пожалуй, еще и утроил. Это для привлечения надобно-с. Удастся одному, смотришь, и другой с крокодилом приедет, а третий уж двух и трех зараз привезет, а около них капиталы группируются. Вот и буржуазия. Надобно поощрять-с».
«- Одно только соображение несколько смущает меня: так как я одет в сукно, а на ногах у меня сапоги, то крокодил, очевидно, меня не может переварить. Сверх того, я живой и потому сопротивляюсь переварению меня всею моею волею, ибо понятно, что не хочу обратиться в то, во что обращается всякая пища, так как это было бы слишком для меня унизительно.
Но боюсь одного: в тысячелетний срок сукно сюртука моего, к несчастью русского изделия, может истлеть, и тогда я, оставшись без одежды, несмотря на все мое негодование, начну, пожалуй, и перевариваться; и хоть днем я этого ни за что не допущу и не позволю, но по ночам, во сне, когда воля отлетает от человека, меня может постичь самая унизительная участь какого-нибудь картофеля, блинов или телятины. Такая идея приводит меня в бешенство.
Уже по одной этой причине надо бы изменить тариф и поощрять привоз сукон английских, которые крепче, а следственно, и дольше будут сопротивляться природе, в случае если попадешь в крокодила. При первом случае сообщу мысль мою кому-либо из людей государственных, а вместе с тем и политическим обозревателям наших ежедневных петербургских газет. Пусть прокричат. Надеюсь, что не одно это они теперь от меня позаимствуют».
«Система плутократiи, введенная въ Англiи прежде всѣхъ другихъ странъ, имеѣтъ въ предметѣ господство большихъ капиталовъ надъ мелкими, — эксплуатацiю народа.
Проповѣдуемая Англiей система свободной международной торговли имѣетъ цѣлiю эксплуатацiю другихъ народовъ. Дѣйствiя послѣдней системы очевидно полезны для первой; умножая богатства своей страны, она даетъ новую пищу нацiональной плутократiи. Слѣдственно интересы ихъ тѣсно связаны между собою. Англiя скопила в средѣ своего богатаго населенiя, пользующагося плутократическою силою, такiя денежныя богатства, такiе капиталы, что ей нечего опасаться невыгоднаго товаро–торговаго баланса, а невыгодности такого баланса въ другихъ странахъ, и особенно нуждающихся въ денежныхъ средствахъ, доставляютъ ей большiя выгоды, заставляя тѣ страны прибѣгать къ займамъ у англiйскихъ плутократовъ; поэтому весьма понятно отчего англiйскiе политико–экономы фритредеры питаютъ такую вражду къ ученiю о торговомъ балансѣ».
Напротив, увязание в «свободной международной торговле» – это ловушка неравномерного развития, всё более усугубляющаяся и имеющая катастрофические социальные последствия.
«Девизомъ соединенiя силъ системъ плутократiи и свободной международной торговли — можетъ быть: «трудъ бѣдныхъ — рудникъ богатыхъ, чѣмъ больше въ странѣ пролетарiевъ, тѣмъ она богаче». – продолжает Шипов, — Конечно, соединенiе силъ такого направленiя ведетъ къ революцiямъ при содѣйствующихъ къ тому политическихъ обстоятельствахъ, потому что хотя силы эти и могутъ, при извѣстныхъ условiяхъ, увеличивать массу богатства страны, но благоденствiе ея будетъ въ плохомъ положенiи, прибывающiя богатства, сосредоточиваясь въ рукахъ небольшаго числа населенiя, пользующагося силою плутократiи, удѣляются остальной массѣ населенiя на столько, на сколько то будетъ выгодно для плутократiи; распредѣленiе удѣляемыхъ такимъ способомъ богатствъ слишкомъ неравномѣрно; оттого число недовольныхъ весьма велико и постоянно возрастаетъ вмѣстѣ съ постепеннымъ уясненiемъ несправедливыхъ правъ плутократiи, и оттого соединенiе недовольныхъ, трудъ которыхъ закрѣпленъ въ зависимость от плутократiи, — соединенiе недовольныхъ для своего освобожденiя весьма естественно…
Но что сказать о такомъ государствѣ, которое обременено внѣшними долгами, которое, чтобъ очищать свой международный балансъ, должно ежегодно приплачивать громадныя суммы, которое даетъ системѣ международныхъ торговыхъ сношенiй всю силу увеличивать эти приплаты, которое стремится присоединить къ этой силѣ еще и силу плутократiи? О такомъ государствѣ, не смотря на всѣ благопрiятствующiя ему политическiя и историческiя обстоятельства, останавливающiя всякiя народныя движенiя, — о такомъ государствѣ должно сказать что пока сила этихъ обстоятельствъ превышаетъ силу гнетущую его экономическое положенiе, оно, это государство, можетъ идти своимъ скорбнымъ путемъ, но народъ его благоденствовать не можетъ; оно идетъ по меньшей мѣрѣ къ своему обѣдненiю, къ кризису экономическому, къ матерiальному и политическому ослабленiю».
«По нерадению, беспечности и пьянству» нет не только пожарного инструмента, трубы, багра, но даже лома нет, топора и ведра, так что женщины заливают огонь подойниками. Все пропито и заложено в трактирах и кабаках!..
И это в подмосковном известном селе! Мы как-то недавно рисовали фантастическую картину возможного и близкого будущего, когда всё будет пропито и заложено, все инструменты,— не только пожарные, но топоры, сохи, бороны. Нарубить дровец — надо будет идти к закладчику выкупать или вымаливать на раз топор; попахаться — тоже надо будет выкупать соху, борону. Да чего борону?
Где тогда будут лошади-то? А где дом, семья, самостоятельность, порядок хоть какой-нибудь? Всё исчезало в нашем фантастическом сне: оставались лишь кулаки и жиды да всем миром закабалившиеся им общесолидарные нищие. Жиды и кулаки, положим, будут платить за них повинности, но уж и стребуют же с них в размере тысячи на сто уплаченное!»
«Все государства, несмотря на все балансы в бюджетах и на «отсутствие дефицитов», un beau matin запутаются окончательно и все до единого пожелают не заплатить, чтоб всем до единого обновиться во всеобщем банкрутстве. Между тем весь консервативный элемент всего мира сему воспротивится, ибо он-то и будет акционером и кредитором, и банкрутства допустить не захочет. Тогда, разумеется, начнется, так сказать, всеобщее окисление; прибудет много жида, и начнется жидовское царство; а засим все те, которые никогда не имели акций, да и вообще ничего не имели, то есть все нищие, естественно не захотят участвовать в окислении… Начнется борьба, и, после семидесяти семи поражений, нищие уничтожат акционеров, отберут у них акции и сядут на их место, акционерами же разумеется. Может, и скажут что-нибудь новое, а может, и нет. Вернее, что тоже обанкрутятся. Далее, друг мой, ничего не умею предугадать в судьбах, которые изменят лик мира сего. Впрочем, посмотри в Апокалипсисе…».
«Рубль упал, займы на военные расходы и проч. Но тут, кроме собственно рубля, была и отместка, да и теперь продолжается, именно за войну отместка: «Мы, дескать, говорили, мы предрекали». Особенно пустились в экономизм те, которые говорили тогда, в семьдесят шестом и седьмом годах, что денежки лучше великодушия, что Восточный вопрос одно баловство и фикция, что не только подъема духа народного нет, не только война не народна и не национальна, но, в сущности, и народа-то нет, а есть и пребывает по-прежнему всё та же косная масса, немая и глухая, устроенная к платежу податей и к содержанию интеллигенции; масса, которая если и дает по церквам гроши, то потому лишь, что священник и начальство велят. Все русские Ферситы (а их много развелось в интеллигенции нашей) были тогда страшно оскорблены в своих лучших чувствах. Гражданин в Ферсите был оскорблен. Вот и начали они мстить, попрекая финансами».
«В том-то и главная наша разница с Европой, что не историческим, не культурным ходом дела у нас столь многое происходит, а вдруг и совсем даже как-то внезапно, иной раз даже никем до того неожиданным предписанием начальства. Конечно, всё произошло и идет не по вине чьей-нибудь, и, уж если хотите, так даже и исторически, но согласитесь и с тем, что такой истории не знала Европа. Как же спрашивать с нас Европы, да еще с европейской системой финансов?
Я, например, верю как в экономическую аксиому, что не железнодорожники, не промышленники, не миллионеры, не банки, не жиды обладают землею, а прежде всех лишь одни земледельцы; что кто обрабатывает землю, тот и ведет всё за собою, и что земледельцы и суть государство, ядро его, сердцевина.
А так ли у нас, не навыворот ли в настоящую минуту, где наше ядро и в ком? Не железнодорожник ли и жид владеют экономическими силами нашими?
Вот у нас строятся железные дороги и, опять факт, как ни у кого: Европа чуть не полвека покрывалась своей сетью железных дорог, да еще при своем-то богатстве. А у нас последние пятнадцать-шестнадцать тысяч верст железных дорог в десять лет выстроились, да еще при нашей-то нищете и в такое потрясенное экономическое время, сейчас после уничтожения крепостного права!
И, уже конечно, все капиталы перетянули к себе именно тогда, когда земля их жаждала наиболее. На разрушенное землевладение и создались железные дороги.
А разрешен ли у нас до сих пор вопрос о единичном, частном землевладении? Уживется ли впредь оно рядом с мужичьим, с определенной рабочей силой, но здоровой и твердой, а не на пролетарьяте и кабаке основанной? А ведь без здравого разрешения такого вопроса что же здравого выйдет? Нам именно здравые решения необходимы, — до тех пор не будет спокойствия, а ведь только спокойствие есть источник всякой великой силы.
Как же спрашивать у нас теперь европейских бюджетов и правильных финансов? Тут уж не в том вопрос, почему у нас нет европейской экономии и хороших финансов, а вопрос лишь в том: как еще мы устояли? Опять-таки крепкой, единительной, всенародной силой устояли».
«— Постройте только две железные дороги, начните с того, — одну в Сибирь, а другую в Среднюю Азию, и увидите тотчас последствия.
— Мало захотели! — засмеются мне, — где средства, и что получим: себе убыток и только.
— Во-первых, если б мы, в последние двадцать пять лет, всего только по три миллиона в год на эти дороги откладывали (а три-то миллиона у нас просто сквозь пальцы иной раз мелькнут), то было бы уже теперь выстроено на семьдесят пять миллионов азиатских дорог, то есть с лишком тысячу верст, как ни считать. Затем, вы толкуете про убыток. О, если б вместо нас жили в России англичане или американцы: показали бы они вам убыток! Вот они-то бы открыли нашу Америку. Да знаете ли, что там есть земли, которые нам менее известны, чем внутренность Африки? И знаем ли мы, какие богатства заключаются в недрах этих необъятных земель? О, они бы добрались до всего, до металлов и минералов, до бесчисленных залежей каменного угля, — всё бы нашли, всё бы разыскали, и материал, и как его употребить. Они бы призвали науку, заставили бы землю родить им сам-пятьдесят, — ту самую землю, про которую мы всё еще думаем здесь, что это лишь голая, как ладонь наша, степь. К добытому хлебу потянулись бы люди, завелась бы промышленность, производство. Не беспокойтесь, нашли бы потребителей и дорогу к ним, изыскали бы их в недрах Азии, где они дремлют теперь миллионами, и дороги бы новые к ним провели!».
Характерно, кстати, что говоря об Азии Достоевский ни в коем случае не имеет в виду культурного и этнического обазиачивания. В этом смысле его логика прямо противоположная евразийской. Он говорит об утверждении русского народа в пространстве Азии. «Где в Азии поселится «Урус», там сейчас становится земля русскою. Создалась бы Россия новая, которая и старую бы возродила и воскресила со временем и ей же пути ее разъяснила». Записывать Достоевского в сторонники нерушимого блока евразийских трудящихся было бы огромной ошибкой.
«Когда в Европе, уже от одной тесноты только, заведется неизбежный и претящий им самим унизительный коммунизм, когда целыми толпами станут тесниться около одного очага и, мало-помалу, пойдут разрушаться отдельные хозяйства, а семейства начнут бросать свои углы и заживут сообща коммунами; когда детей будут растить в воспитательных домах (на три четверти подкидышами), тогда — тогда у нас всё еще будет простор и ширь, поля и леса, и дети наши, будут расти у отцов своих, не в каменных мешках, а среди садов и засеянных полей, видя над собой чистое небо».
«Да, много там наших надежд заключено и много возможностей, о которых мы здесь и понятия еще составить не можем во всем объеме! Не одно только золото там в почве спрятано. Но нужен новый принцип. Новый принцип и потребные на дело деньги родит.
Ибо к чему нам, если уж всё говорить, — к чему нам (и особенно в теперешнюю минуту) содержать там, в Европе, хотя бы столько посольств с таким столь дорого стоящим блеском, с их тонким остроумием и обедами, с их великолепным, но убыточным персоналом. И что нам там (и именно теперь) до каких-то Гамбетт, до папы и его дальнейшей участи, хотя бы и угнетал его Бисмарк? Не лучше ли, напротив, на время, в глазах Европы, прибедниться, сесть на дорожке, шапочку перед собой положить, грошики собирать: дескать, «La Russie опять se recueille». А дома бы тем временем собираться, внутри бы тем временем созидаться!
Скажут: к чему ж унижаться. Да и не унизимся вовсе! Я ведь только в виде аллегории про шапочку сказал. Не то что не унизимся, а разом повысимся, вот как будет! Европа хитра и умна, сейчас догадается и, поверьте, начнет нас тотчас же уважать!
О, конечно, самостоятельность наша ее, на первых порах, озадачит, но отчасти ей и понравится. Коль увидит, что мы в «угрюмую экономию» вступили и решились по одежке протягивать ножки, увидит, что и мы тоже стали расчетливыми и свой рубль сами первые бережем и ценим, а не делаем его из бумажки, то и они тоже тотчас же наш рубль, на своих рынках, ценить начнут.
Да чего, — увидят, что мы даже дефицитов и банкротств не боимся, а прямо к своей точке ломим, то сами же придут к нам денег предлагать, — и предложат уже как серьезным людям, уже научившимся делу и тому, как надо каждое дело делать…».
Вы можете поддержать проекты Егора Холмогорова — сайт «100 книг», Атомный Православный Подкаст, канал на ютубе оформив подписку на сайте Патреон:
www.patreon.com/100knig
Подписка начинается от 1$ - а более щедрым патронам мы еще и раздаем мои книжки, когда они выходят.
Так же вы можете сделать прямое разовое пожертвование на карту
4276 3800 5886 3064
или Яндекс-кошелек (Ю-money)
41001239154037
Спасибо вам за вашу поддержку, этот сайт жив только благодаря ей.



